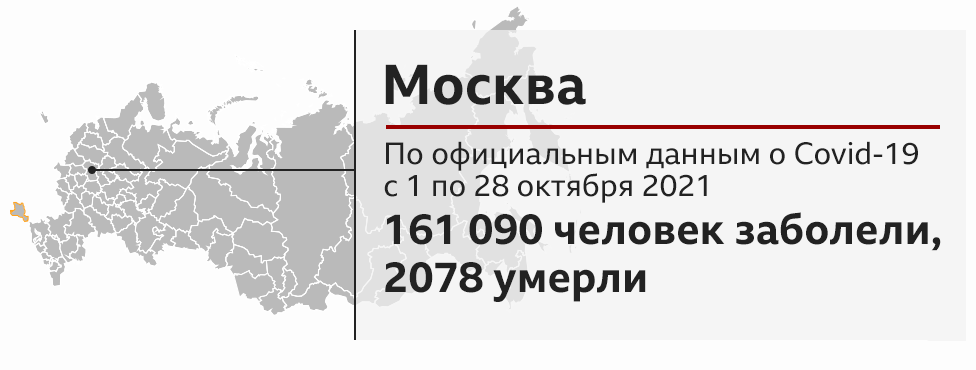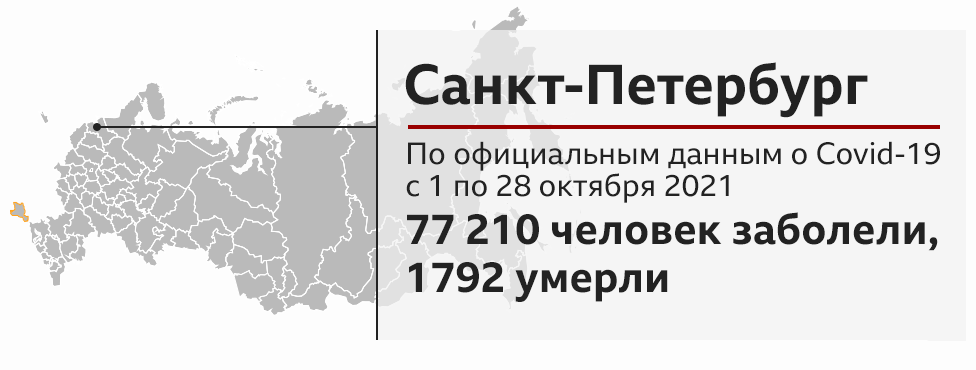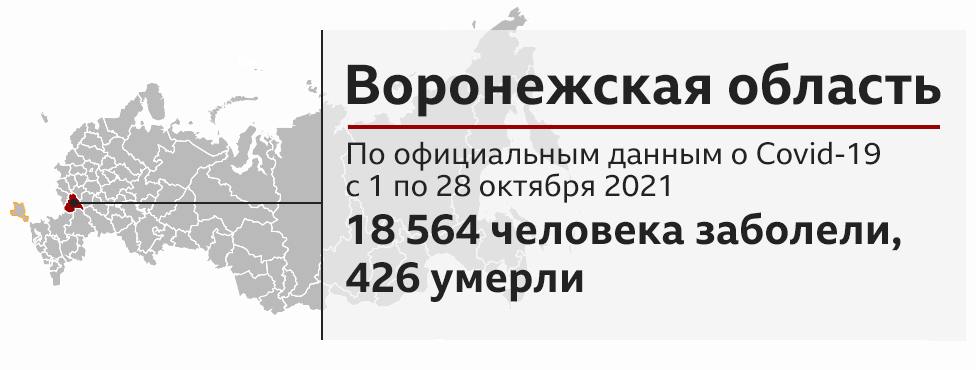Технология генного редактирования от компании Editas Medicine помогла двум пациентам в лечении врожденной дистрофии сетчатки, власти США разрешили испытания на людях препарата для генной терапии ВИЧ, в Японии начали продавать помидоры с измененным геномом, способствующие снижению давления. Это новости генной инженерии только за последний месяц. Ее считают будущим медицины, способным избавить человечество от тяжелых наследственных болезней. Особенные надежды связывают с правкой геномов по методу CRISPR/Cas, получившему широкое применение всего за несколько лет с момента открытия.
Однако отношение общественности к чудесам генетики пока не устоялось. Допустимо ли управлять биологическим развитием человека, превращая эволюцию в революцию? Ведь возможности CRISPR/Cas ограничены лишь нашей фантазией: теоретически можно вывести новую расу людей, наделив ее почти фантастическими свойствами. Общественные и религиозные деятели высказывают по этому поводу тревогу, а чиновники разных стран пытаются выработать новые правила игры в медицине.
Но, как считают эксперты «Профиля», ослабление этических барьеров неизбежно. Оно уже происходит в силу нескольких причин: невозможности контролировать соблюдение запретов, соблазна овладеть новым многомиллиардным рынком, а также технологической конкуренции мировых держав, толкающей их на скользкую генетическую дорожку.
Вырезать – вставить
В середине XX века ученые установили, каким образом происходит передача наследственной (генетической) информации, зашифрованной в молекулах ДНК. Это позволило начать опыты с целенаправленным изменением генома живых существ. В 1972 году команда ученых в Стэнфорде (США) получила рекомбинантную ДНК, сшив фрагменты генетического кода двух различных вирусов. А год спустя биологи Герберт Бойер и Стэнли Коэн вывели первый организм, основанный на рекомбинантной ДНК.
С тех пор минуло полвека, и генная инженерия прошла большой путь, пусть не всегда видимый стороннему наблюдателю. На рубеже XXI века был полностью секвенирован (прочитан) человеческий геном: сложнейший проект, координируемый властями США, потребовал $3 млрд вложений и 13 лет работы. После этого всего за 15 лет (в 2001–2016 годах) стоимость расшифровки генома отдельно взятого человека упала, по данным National Human Genome Research Institute, со $100 млн до $1 тыс.
Оформилась концепция генной терапии: путем разрезания молекулы ДНК в определенном месте можно изменить последовательность генетической информации, «починив» геном от нежелательной мутации или, наоборот, усилив желаемые свойства организма. Сложность состоит в способе внесения разрыва: для этого необходимо создать специальный белок, распознающий искомую последовательность в геноме.
В 1990–2000-х генетики разработали две технологии «молекулярных ножниц» – ZFN (Zinc Finger Nuclease) и TALEN (Transcription Activator-like Effector Nucleases). Но они крайне трудны в использовании: на поиск нужной формулы лучшим лабораториям мира требуются годы работы.
В начале 2010-х был предложен новый метод – CRISPR/Cas (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, Cas – разрезающий ДНК фермент). Он был известен с конца 1980-х, однако долгое время фигурировал лишь в фундаментальных исследованиях. В 2012 году биохимики Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна показали, как использовать CRISPR в генном редактировании. Причем не только вырезать плохой участок ДНК, но и вставлять вместо него хороший в качестве «заплатки».
Это поистине эпохальное открытие: работать с CRISPR проще и быстрее, чем с ZFN и TALEN, метод сразу стал популярен в научном сообществе, к разработке препаратов генной терапии подключились сотни новых лабораторий. В 2020 году вклад Шарпантье и Дудны был отмечен Нобелевской премией по химии.
Большинство клинических применений CRISPR сводятся к лечению наследственных заболеваний, против которых ранее медицина была бессильна (мышечная дистрофия Дюшенна, хорея Гентингтона, лимфома Ходжкина, муковисцидоз, слепота). Также особые надежды связаны с лечением ВИЧ: поскольку этот вирус интегрируется в ДНК клеток, спасение от него лежит на генетическом уровне.
Современный Франкенштейн
Главным сдерживающим фактором при использовании CRISPR является точность разреза ДНК. Не исключена вероятность ошибки, а ставки в этой игре высоки: малейшая неточность чревата злокачественной мутацией или опухолью в организме пациента. Считается, что по мере накопления клинических исследований точность удастся подтянуть, но некоторые ученые утверждают, что мы так и не научимся просчитывать все последствия вмешательства в человеческий геном – в нем слишком много неочевидных взаимосвязей.
«Моногенных заболеваний, то есть вызванных поломкой конкретного гена, не так много, – объясняет «Профилю» футуролог, сооснователь венчурного фонда Orbita Capital Partners Евгений Кузнецов. – Например, в случае СПИДа есть возможность воздействовать на один ген, и с вероятностью 95% мы получим успех. Но большинство параметров человека кодируется комбинацией генов. Пока научный поиск не настолько далеко продвинулся, чтобы можно было считать CRISPR отработанной технологией».
По этой причине эксперименты с CRISPR-редактированием до последнего времени проводили in vitro, то есть вне организма пациента, на клетках-донорах. Часто ими выступали оплодотворенные яйцеклетки (зиготы). При этом согласно правилам, принятым во многих странах, возраст участвующих в исследованиях эмбрионов не должен превышать 14 дней: после этого биоматериал следует уничтожить, переносить его в матку для последующего рождения ребенка запрещено.
Гуманность этого запрета была подтверждена в 2015 году, когда биологи из Университета Сунь Ятсена (Гуанчжоу, Китай) отредактировали геном 86 зигот с заболеванием крови. 15 из них вовсе не пережили операцию, точный разрез ДНК был произведен только в 28 зиготах, а правильно поставить генетическую «заплатку» удалось в четырех.
А через три года в научном мире разразился скандал. Другой китайский ученый, Хэ Цзянькуй из Шэньчжэня, проводя опыты над эмбрионом ВИЧ-инфицированных родителей, удалил отвечающий за заболевание ген CCR5, а затем подсадил зародыша матери. В результате родились девочки-близнецы Лулу и Нана.
Цзянькуй рассказал о своей работе на конференции, и западные ученые отреагировали резко негативно: например, они указывали, что отключение гена CCR5 повышает риск смерти человека от гриппа и лихорадки Западного Нила. Цзянькуя даже сравнивали с Виктором Франкенштейном – амбициозным доктором из готического романа Мэри Шелли, невольно породившим монстра.
Китайские власти долго не комментировали происходящее, но затем «сдали» Цзянькуя международному сообществу: он был обвинен в нарушении медицинских регламентов КНР и арестован. При этом многие обстоятельства дела были засекречены, и на данный момент судьба Лулу и Наны неизвестна.
Игра в Бога
Эта история стала поводом для дискуссий об этичности генного редактирования. Во-первых, эмбрион не может дать информированное согласие на лечение – базовое условие медицинских процедур. Во-вторых, создание здоровых эмбрионов подразумевает вторжение в клетки зародышевой линии, то есть произведенные коррекции генетического кода будут переданы по наследству (в случае с лечением взрослого пациента этого можно избежать, ограничив манипуляции соматическими клетками).
Сергей Куцев: «Не надо путать генетику с хиромантией»

В-третьих, модифицировать гены можно не только в медицинских целях, но и для иных изменений человеческой породы. Потенциально генная инженерия может стать более эффективной разновидностью евгеники (отбору благоприятных мутаций) или экспериментов с облучением людей (провоцированием мутаций), но и то, и другое имеет крайне негативную историческую коннотацию. В западных медиа любят перечислять «ночные кошмары» CRISPR-редактирования: якобы оно может нарушить естественный ход эволюции; страны с тоталитарными режимами могут вывести послушных подданных, заблокировав у них «бунтарские» гены; возникнет проблема генетической дискриминации, если богачи смогут прокачать свои физические данные и даже внешне стать людьми «первого сорта».
Кроме того, в рискованных экспериментах с ДНК можно создать новый вирус, который распространится по всей планете. Как тут не вспомнить теории о рукотворной пандемии COVID-19: ведь, по заключению китайских вирусологов, новый коронавирус родился путем рекомбинации ДНК вирусов змеи, летучей мыши и человека.
Многие из этих страхов преувеличены, убежден Евгений Кузнецов. «Например, разговоры про генетическое оружие, с помощью которого якобы будут вестись войны будущего, – явная спекуляция, – считает эксперт. – Наука говорит, что нет таких генетических инструментов, которые могли бы подействовать на одну популяцию и не затронуть другую. Тем более сейчас все популяции перемешаны, генетически неоднородны. Но концепция human enhancement, то есть усиления наших способностей, видится вполне реальной. Можно научить человека видеть ночью, чуять определенные запахи, повысить порог боли и страха. Можно предположить, что военные с этим экспериментируют, особенно в Китае. Но, разумеется, под грифом «секретно». Вообще люди пока не поняли, как относиться к глубокой генной коррекции. Применение этого метода за гранью текущей парадигмы восприятия человека и возможностей медицины».
Этические проблемы генной инженерии были осознаны еще в 1970-х. Естественной реакцией стали ограничения. Например, в 1975-м в США была проведена конференция по вопросам опытов с рекомбинантной ДНК. Одним из ее решений был запрет на внедрение такой ДНК в клетки биологических видов, способных выжить вне стен лаборатории.
В 1990-х похожим образом научное сообщество отреагировало на достижения в области клонирования. В 1996 году родилась овечка Долли, первое клонированное млекопитающее, а в 1997-м ООН выпустила «Всеобщую декларацию о геноме человека и правах человека», запрещающую «воспроизводство человеческой особи».